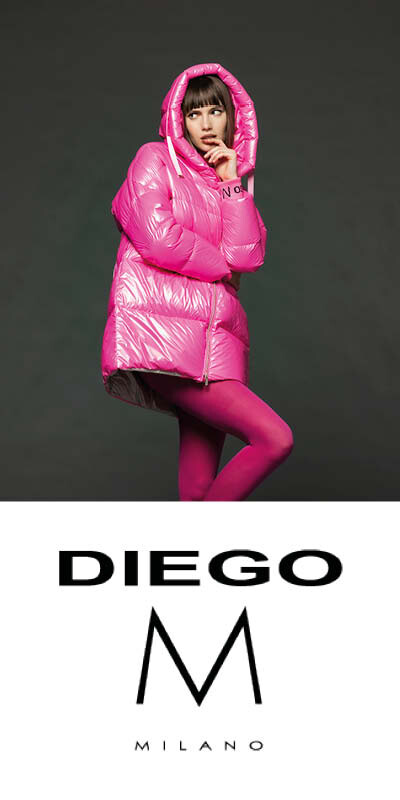«Какие искривленные, глухие, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины», — сокрушался два века назад Гоголь. Путь к ней может быть разным, тем более что поиски абсолютной последней инстанции так и остаются вечными. Разве можно найти то, что «проступает в вечности, не проходит, но пребывает»? Но без дороги нет пути. А пути нет без веры в истину. О правде и истине, о вечной борьбе мифа и логоса, о том, что рассыпается, исчезая, под напором времени, и о том, что остается незыблемым, наш колумнист — советский и российский искусствовед, телеведущий, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Человеку свойственно «удивляться жизни», задавая вопросы, и мучительно искать на них ответы. Последнее не всегда получается, особенно если вопросы из разряда сакральных. О том, что вечная история поисков обречена на мучительную трагическую неутоленность, предупреждали со времен Ветхого Завета: умножающий познания в той же мере умножает скорбь. Истина отодвигается с каждым разом на то же пространство, которое занимает созданная очередным «великим безумцем» в «Великий Полдень» его Правда о мире и человеке. И всякий раз, разочаровываясь в правде, которая совсем недавно казалась истиной, человек создает новые формулы откровений, чтобы дотянуться‑таки до того совершенного состояния, которое древние греки определили как «алетейя».
Правда и истина, возможно, важнейшие ценностные мотивации человеческой деятельности. Потому что поиски истины и провозглашение правды лежат в основе как архетипического, так и современного сознания; именно они составляют истоки сюжетов мировой культуры. Между правдой и истиной есть различия — и существенные: почти до середины XIX века трактовка сущности этих понятий была противоположна современным толкованиям. Истина виделась как человеческое начало, а правда как божественное. Правда от слова «правый», то есть верный. Истина от слова «есть» — то, что существует. То есть правда — это как дóлжно быть, а истина — то, что есть. Разночтения этих концептов, значимых для русского сознания, витали в воздухе уже 60‑х годов позапрошлого столетия. Известно, что Достоевский в дневниках 1877 года явно отдавал приоритет Истине перед Правдой: «Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен». А у Тургенева в одном из последних стихотворений Истина отступает перед Правдой: «Истина не может доставить блаженства… Вот Правда может… За Правду и умереть согласен».
С XX века и по нынешний день понятия правды и истины несколько изменились в приоритетном соотношении. В современном русском языке правда — это некая информация, носящая зачастую временный, преходящий смысл, претендующая на достоверность, но не обязательно ее несущая. Истина же — абсолютное, неоспоримое знание, связанное с духовной сферой. Таким образом, современная трактовка: правда — понятие земное, истина — возвышенное, божественное. Но сам человек не изменился, ему по‑прежнему, как и тысячелетия назад, хочется и правды, и истины. Особенно это свойственно нашему отечественному мировосприятию. Это достаточно емко выразил Достоевский: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все выгоды, которые мы можем потерять из‑за нее, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из‑за нее». С тех пор, как были написаны эти слова, которые и сейчас могут раздражать некоторых людей, считающих себя единственными патриотами России и в России, утекло немало времени и многое изменилось в мире и в сознании людей. И это закономерно. Мир подвижен, относителен, каузально обусловлен. Исторические периоды, сферы сознания, нравственные и идеологические показатели личности пришли в сцепление, казалось, лишились исключительности. Особенно это отчетливо стало проявляться в XX веке. Эйнштейн своей теорией относительности предположил, что в природе отсутствуют привилегированные состояния движения. Возможно, тысячелетия назад именно на это намекал еще Гераклит. Эпоха чаще всего определяет свое понимание правды. Когда‑то в Советском Союзе была долгая дискуссия между «консерваторами» и «демократами» в коммунистической партии. Дискуссия о приоритетах партийности и правдивости. Что первично и что выше. И всегда приходили к компромиссу: партийность должна быть правдива, а правдивость — партийна. Но этот компромисс, безусловно, чистая софистика. Нет сейчас диктата партийности, но остался как вечная проблема спор приоритетов. Между правдой и истиной и интересами сегодняшней жизни. Нет безусловной правды для всех, как и единых скрижалей, где выведена четкая грань между добром и злом. В современном мире многим кажется, что этика и мораль имеют временной, классовый, национальный характер. Вроде бы понятно, что то, что сегодня хорошо, условно говоря, какому‑то террористу из ИГИЛ, запрещенного в РФ, не хорошо европейцу, против которого ИГИЛ воюет. Но на самом деле этический фундамент человека не слишком поколеблен социальными ненастьями. Правда может быть субъективной, а истина едина и безусловна.
Есть одна проблема, очень важная. Почти треть населения Земли в развитых странах считает, что Солнце вертится вокруг Земли. Некоторые вообще думают, что земля плоская, — такова их правда. Это не значит, что эти «некоторые» — плохие люди. Они могут любить своих детей, быть хорошими, добрыми членами общества и добросовестными налогоплательщиками. Но важно их не допускать до конструирования ядерных реакторов, космических ракет, авто-, авиастроения, потому что ничего не будет летать и все будет взрываться.
Правд может быть много: моя правда, твоя правда. Как было в советское время: казахстанская правда, украинская правда. Правда, которую можно говорить дома, а в публичном пространстве — нельзя.
Вспоминается день из детства. Весна 1956 года, после выступления Хрущева. Естественно, этот доклад обсуждался в нашей большой коммунальной квартире. Я учился во втором классе. Пошел в школу на следующий день, вдохновленный услышанным, сказал в классе: «Сталин — враг народа». Испугалась очень учительница, вызвала мою бабушку, с которой я жил. Та меня довела до подъезда, дала по морде и произнесла, четко выговаривая слова: «Совсем не обязательно говорить в школе все то, что ты слышишь дома!» Вот это я на всю жизнь запомнил. Сейчас, по истечении времени, понимаю, что истина — это понятие универсальное. А правда все‑таки понятие психологическое и потому временное. Как известно, после Большого взрыва образовалась некая материя. Мы ее видим, ощущаем только на 5 %. И из этого строим свои представления о глобальном. А они могут быть ошибочными. Поэтому путь к постижению истины — это процесс, который бесконечен.
Мы сегодня придумываем очень многое, что является на самом деле ложным. Человек всегда тянулся к мифу, к этому манящему чудесному миру, внутри которого жить уютно и благостно. Демифологизация многим кажется катастрофой, чуть ли не изменой Родине. Но каким бы трудным ни был этот выбор, реальная политика должна строиться на знании, а не на невежестве.